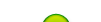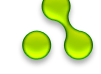Вторник, 22 декабря 1960
Дон Хуан сидел на земле возле двери
своего дома, прислонясь к стене. Перевернув деревянный ящик из-под молочных
бутылок, он предложил мне присесть и чувствовать себя как дома. Я привез с
собой блок сигарет. Вытащив несколько пачек, я предложил их дону Хуану. Он
сказал, что не курит, но подарок принял. Мы поговорили о том, что ночи в
пустыне стоят холодные, и еще о разных мелочах.
Я спросил, не нарушает ли мое
появление его привычный распорядок. Он взглянул на меня, слегка нахмурившись, и
ответил, что у него нет никаких распорядков и что если мне хочется, я могу
провести у него хоть целый день.
Я заранее заготовил несколько
опросных генеалогических карт, которые собирался заполнить со слов дона Хуана.
Кроме того, порывшись в литературе по этнографии, я составил обширный перечень
особенностей культуры местных индейцев. Я собирался просмотреть его с доном
Хуаном и отметить то, что покажется ему знакомым.
Начал я с генеалогии.
Как звали твоего отца? – спросил я.
– Я звал его «папа», – ответил дон
Хуан совершенно серьезно.
С некоторым раздражением я подумал,
что он не понял и надо ему втолковать. Показав опросную карту, я разъяснил, что
одна пустая графа там оставлена для имени и фамилии отца, другая – для имени и
фамилии матери. Потом я решил, что, наверное, следовало начать с матери, и
спросил:
– Как звали твою мать?
– Я звал ее «мама», – ответил он с
обезоруживающей наивностью.
Сдерживаясь и стараясь быть
вежливым, я сформулировал вопрос иначе:
– А как ее звали другие? Как вообще
к ней обращались?
С глуповатой улыбкой старик
взглянул на меня и почесал за ухом:
– Ага… Вот тут ты меня поймал. Надо
подумать…
После минутного замешательства он,
казалось, что-то вспомнил.
Я приготовился записывать. С
глубокомысленным видом дон Хуан произнес:
– Другие? Другие обращались к ней
так: «Эй, послушай-ка!»
Я невольно рассмеялся. Все это
выглядело действительно комично, и я не мог понять, то ли передо мной хитрый
старый индеец, который намеренно морочит мне голову, то ли и вправду
простодушный дурачок. Набравшись терпения, я постарался разъяснить ему, что
этот вопрос – весьма серьезен и что заполнение опросных карт является очень
важным моментом в моей работе. Я приложил максимум стараний к тому, чтобы он
понял идею генеалогии и личной истории. Закончив, я спросил:
– Так можешь ты назвать мне имена
своих родителей?
Он взглянул на меня. Взгляд его был
ясным и добрым.
– Ты зря тратишь время. Давай не
будем заниматься ерундой.
Я не нашелся что сказать. Только
что я разговаривал с растерявшимся глуповатым индейцем, который озадаченно
чесал в затылке, и вот, спустя какое-то мгновение, роли переменились: теперь
уже я сам чувствовал себя дураком, а он смотрел на меня совершенно неописуемым
взглядом. В его взгляде не было ни раздражения, ни презрения, ни торжества или
самодовольства, а лишь ясность, проникновенность и доброта.
– У меня нет личной истории, –
сказал дон Хуан после продолжительной паузы. – В один прекрасный день я
обнаружил, что в ней нет никакой нужды, и разом избавился от нее. Так же, как
от привычки выпивать.
Я ничего не понял. У меня возникло
ощущение смутной тревоги. Я напомнил ему, что он сам разрешил мне задавать
вопросы. Он опять сказал, что против вопросов не возражает.
– Но личной истории у меня больше
нет, – сказал он и испытующе взглянул на меня. – Когда она стала лишней, я от
нее избавился.
Я уставился на него, пытаясь
вникнуть в скрытый смысл его слов.
– Но как можно избавиться от личной
истории?
– Сначала нужно этого захотеть, а
потом, действуя последовательно и гармонично, в конце концов просто отсечь ее.
– Но зачем?! – воскликнул я.
Моя личная история была мне ужасно
дорога. Я совершенно искренне чувствовал, что без глубоких семейных корней в
моей жизни не было бы ни преемственности, ни цели.
– Нельзя ли уточнить, что имеется в
виду, когда ты говоришь «избавиться от личной истории»? – спросил я.
– Уничтожить ее. Стереть – вот что,
– жестко ответил дон Хуан.
– Ну ладно. Возьмем, например,
тебя. Ты – яки. Как можно это стереть? Ведь ты не можешь этого изменить.
– Я – яки? – с улыбкой спросил он.
– С чего ты взял?
– Верно! – сказал я. – Я не могу
этого знать наверняка, но сам-то ты знаешь, и это единственное, что имеет
значение и что делает этот факт личной историей.
Я почувствовал, что попал в точку.
Но он ответил;
– То, что мне известно, – яки я или
нет, еще не является личной историей. Личной историей становится лишь то, что
знаю не только я, но и кто-нибудь другой. Что же касается моего происхождения,
то уверяю тебя; никто не может сказать с уверенностью, что ему что-нибудь об
этом известно.
Я торопливо записывал за ним все,
что он говорил. Затем, прекратив писать, взглянул на него. Я никак не мог
понять, с кем имею дело. В уме промелькнул весь набор впечатлений, которые он
на меня производил: таинственный жуткий взгляд, с которого началось наше
знакомство, обаяние его утверждений о том, что все в мире соглашается с ним,
его остроумие, собранность и динамичность, и тут же – выражение полнейшей
тупости на лице, когда я спросил о родителях, а сразу после этого – совершенно
неожиданная сила его ответов, которыми он поставил меня на место.
– Ты недоумеваешь, кто же я такой?
– спросил он, словно читая мои мысли. – Тебе никогда не узнать, кто я и что из
себя представляю. Потому что у меня нет личной истории.
Он спросил, есть ли у меня отец. Я
ответил, что есть. Дон Хуан сказал, что мой отец – пример того, о чем идет
речь. Он велел вспомнить, что думает обо мне отец, а потом сказал.
– Отец знает о тебе все. Поэтому ты
для него – как раскрытая книга. Он знает, кто ты такой, что из себя
представляешь и чего стоишь. И нет на земле силы, которая могла бы заставить
его изменить свое отношение к тебе.
Дон Хуан сказал, что у каждого, кто
меня знает, сформировался определенный образ моей личности. И любым своим
действием я как бы подпитываю и еще больше фиксирую этот образ.
– Неужели тебе не ясно? –
драматически сказал он. – Твоя личная история постоянно нуждается в том, чтобы
ее сохраняли и обновляли. Поэтому ты рассказываешь своим друзьям и
родственникам обо всем, что делаешь. А если бы у тебя не было личной истории,
надобность в объяснениях тут же отпала бы. Твои действия не могли бы никого
рассердить или разочаровать, а самое главное – ты не был бы связан ничьими
мыслями.
Неожиданно до меня дошло, что он
имеет в виду. Я и раньше, можно сказать, знал это, но никогда не пытался это
осознать. Свобода от личной истории казалась вещью довольно заманчивой, по
крайней мере на интеллектуальном уровне. Но от нее веяло грозным и неуютным
одиночеством. Я хотел было поделиться с ним своими ощущениями, но спохватился,
поскольку во всей этой ситуации было что-то ужасно нелепое. Мне казалось, что
просто смешно ввязываться в философский спор с невежественным старым индейцем,
который в плане «интеллектуальной изощренности» явно уступает студенту университета.
Однако он все же каким-то образом увел меня в сторону от первоначального
намерения расспросить его о генеалогии. Чтобы вернуть разговор в нужное мне
русло, я сказал:
– Почему мы вообще обо всем этом
заговорили? Мне ведь, собственно, только нужно было заполнить опросную карту.
– Как почему? – ответил он. – Мы
заговорили об этом, потому что я сказал: задавать вопросы о прошлом – занятие
совершенно никчемное.
Говорил он очень твердо. Я понял,
что ничего не добьюсь, и решил изменить тактику.
– Освобождение от личной истории
присуще всем индейцам яки? – спросил я.
– Оно присуще мне.
– А как ты этому научился?
– Жизнь научила.
– Тебя учил отец?
– Нет. Скажем так, я научился этому
сам. И сегодня я открою тебе эту тайну, так что ты уедешь отсюда не с пустыми руками.
Его голос перешел в торжественный
шепот. Это актерство меня рассмешило. Я не мог не признать, что в этом он –
большой мастер. Мне даже пришло в голову, что я имею дело с прирожденным
артистом.
– Давай, – покровительственным
тоном сказал дон Хуан, – Записывай. Ты ведь без этого жить не можешь.
Я взглянул на него, и в моих
глазах, должно быть, мелькнуло скрытое замешательство. Он хлопнул себя по
ляжкам и с довольным видом рассмеялся.
– Всю личную историю следует
стереть для того… – медленно, как бы диктуя, произнес он.
Я лихорадочно записывал.
– … чтобы освободиться от
ограничений, которые накладывают на нас своими мыслями другие люди.
Я не верил своим ушам. Он не мог
этого сказать. Я был буквально подавлен, что, должно быть, отразилось на моем
лице. Он не преминул этим воспользоваться.
– Вот ты, например, – продолжал он.
– В данный момент ты недоумеваешь, гадая, кто же я такой. Почему? Потому что я
стер личную историю, постепенно окутав туманом свою личность и всю свою жизнь.
И теперь никто не может с уверенностью сказать, кто я такой и что делаю.
– Но ты-то сам знаешь, разве не
так? – вставил я.
– Я-то, будь уверен… тоже нет! –
воскликнул он и затрясся от смеха.
Прежде чем сказать «тоже нет» он
выдержал довольно длинную паузу, и я был уверен, что он скажет «знаю». В его
неожиданном ответе было что-то угрожающее, и я вновь почувствовал страх.
– Это и есть та маленькая тайна,
которую я намерен тебе сегодня открыть, – тихо произнес дон Хуан. – Никто не
знает моей личной истории. Никому не известно, кто я такой и что делаю. Даже
мне самому.
Прищурившись, он смотрел в
пространство за моим правым плечом. Он сидел, скрестив ноги и выпрямившись,
однако его тело казалось полностью расслабленным. В этот миг он был сама
суровость: ни дать ни взять – могучий вождь, «краснокожий воин» из книг моего
детства. Я поддался романтическому воображению и вдруг отчетливо ощутил
противоречивость своего отношения к этому человеку: он очень меня притягивал и
в то же время до смерти путал.
Так он сидел, глядя в пространство
перед собой довольно долго.
– Откуда мне знать, кто я такой,
если все это – я? – спросил он, движением головы указывая на все, что нас
окружало: потом он взглянул на меня и улыбнулся.
– Ты должен постепенно создать
вокруг себя туман, шаг за шагом стирая все вокруг себя до тех пор, пока не
останется ничего гарантированного, однозначного или очевидного. Сейчас твоя
проблема в том, что ты слишком реален. Реальны все твои намерения и начинания,
все твои действия, все твои настроения и побуждения. Но все не так однозначно и
определенно, как ты привык считать. Тебе нужно взяться за стирание своей
личности.
– Но зачем? – ошеломленно спросил
я.
До меня вдруг дошло, что он мне
указывает, как себя вести. Сколько себя помню, я всегда терпеть не мог, когда
кто-либо пытался учить меня жить. Сама мысль о том, что мне собираются
указывать, что я должен делать, немедленно вызывала во мне защитную реакцию.
– Ты говорил, что тебя интересует
информация о растениях, – спокойно сказал он. – Ты что же, думаешь получить ее
даром? Как это, по-твоему, называется? Мы ведь условились – ты задаешь вопросы,
а я рассказываю тебе то, что знаю. Если тебя это не устраивает, то нам больше
не о чем говорить.
Меня раздражала его ужасная
прямота, но я поневоле был вынужден признать, что он прав.
– Скажем так: если ты хочешь
изучать растения, то должен, кроме всего прочего, стереть свою личную историю.
– Но каким образом? – спросил я.
– Начни с простого – никому не
рассказывай о том, что в действительности делаешь. Потом расстанься со всеми,
кто хорошо тебя знает. В итоге вокруг тебя постепенно возникнет туман.
– Но это же полный абсурд! –
воскликнул я. – Почему меня никто не должен знать? Что в этом плохого?
– Плохо то, что те, кто хорошо тебя
знают, воспринимают твою личность как вполне определенное явление. И как только
с их стороны формируется такое к тебе отношение, ты уже не в силах разорвать
путы их представлений о тебе. Мне же нравится полная свобода неизвестности.
Никто не знает меня с полной определенностью, как, например, многие знают тебя.
– Но в этом уже присутствует ложь.
– Ложь или правда – мне до этого
дела нет, – жестко произнес он. – Ложь существует только для тех, у кого есть
личная история.
Я возразил, что мне не нравится
намеренно мистифицировать людей или вводить их в заблуждение. Он ответил, что я
и так ввожу в заблуждение всех, с кем имею дело.
Старик затронул больной вопрос. Я
даже не спросил, что он имеет в виду или почему он решил, что я постоянно всех
мистифицирую. Вместо этого я тут же пустился в объяснения – все мои
родственники и друзья почему-то считают меня человеком ненадежным, и это
причиняет мне боль, так как за всю жизнь я ни разу не солгал.
– Но ты всегда знал, как это
делается, – заметил он. – Тебе не хватало одного – ты не знал, зачем следует
лгать. Теперь знаешь.
Я запротестовал:
– Неужели ты не понимаешь – я сыт
по горло тем, что меня считают ненадежным?
– Но ведь это так, – убежденно
сказал он.
– Да нет же, черт возьми! –
воскликнул я.
Вместо того, чтобы отнестись к этой
моей вспышке серьезно, он захохотал как безумный. Я чувствовал, что ненавижу
его. Но к сожалению, он снова был прав.
Угомонившись, он продолжил:
– Если у человека нет личной
истории, то все, что бы он ни сказал, ложью не будет. Твоя беда в том, что ты
вынужден всем все объяснять, и в то же время ты хочешь сохранить ощущение
свежести и новизны от того, что делаешь. Но оно исчезает после того, как ты
рассказал кому-нибудь обо всем, что сделал, поэтому чтобы продлить его, тебе
необходимо выдумывать.
Я был ошеломлен таким оборотом
нашей беседы, и старался как можно точнее все записывать. Для этого мне
пришлось полностью сосредоточиться на его словах, оставив в стороне свои
собственные возражения и возможный скрытый смысл того, о чем он говорил.
– Отныне, – сказал он, – ты просто
должен показывать людям то, что считаешь нужным, но никогда не говори, как
достиг этого.
– Но я не умею хранить тайны! –
воскликнул я. – Поэтому то, что ты говоришь, для меня бесполезно.
– Ну так изменись! – резко бросил
он, яростно сверкнув глазами.
Он напоминал странного дикого зверя,
но в то же время был очень последователен и мыслил исключительно точно. Мое
раздражение сменилось состоянием замешательства.
– Видишь ли, – продолжал он, – наш
выбор ограничен: либо мы принимаем, что все – реально и определенно, либо –
нет. Если мы выбираем первое, то в конце концов смертельно устаем и от себя
самих, и от всего, что нас окружает. Если же мы выбираем второе и стираем
личную историю, то все вокруг нас погружается в туман. Это восхитительное и
таинственное состояние, когда никто, даже ты сам, не знает, откуда выскочит
кролик.
Я возразил, что стирание личной
истории лишь усугубит чувство неуверенности и незащищенности.
– Когда отсутствует какая бы то ни
было определенность, мы все время начеку, мы постоянно готовы к прыжку, –
сказал он. – Гораздо интереснее не знать, за каким кустом прячется кролик, чем
вести себя так, словно тебе все давным-давно известно.
Он замолчал и, кажется, целый час
не говорил ни слова. Я не знал, что спросить. Наконец он встал и попросил
подвезти его в соседний городок.
Почему-то от этой беседы я так
устал, что хотелось спать. Он попросил меня остановить машину и сказал, что
если мне нужно отдохнуть, я должен взобраться на плоскую вершину холма у дороги
и полежать на ней ничком, головой на восток.
В его голосе была настойчивость. Я
не хотел спорить, а может, просто настолько устал, что был не в силах даже
говорить. Взобравшись на холм, я сделал все так, как он сказал.
Я заснул всего на две-три минуты,
но этого оказалось достаточно, чтобы мои силы полностью восстановились.
Мы доехали до центра городка, где
он попросил его высадить.
– Возвращайся, – сказал он, выходя из машины. –
Обязательно возвращайся.
|