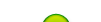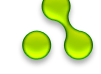3 октября 1968 года я приехал к
дону Хуану с одной-единственной целью - как можно подробнее расспросить его о
посвящении Элихио. Чтобы ничего не упустить, я заранее составил список
вопросов, постаравшись сформулировать их как можно тщательнее.
Начал я так:
- Дон Хуан, в ту ночь я видел?
- Почти.
- А ты видел, что я вижу движения
Элихио?
- Да. Я видел, что Мескалито позволил
тебе увидеть часть урока, предназначенного Элихио. Иначе ты просто смотрел бы
на человека, который сидит или лежит без движения. Ведь на последней митоте ты
не заметил, чтобы кто-то из участников делал что-то особенное, правда?
Это было действительно так. Я
сказал дону Хуану, что с уверенностью могу констатировать только одно -
некоторые отлучались в кусты чаще остальных.
- Ты почти видел весь урок Элихио,
- продолжал он. - Подумай об этом. Понимаешь, насколько благосклонен к тебе
Мескалито? Я не знаю ни единого человека, с кем бы он так возился. Ни единого.
А ты не обращаешь на его великодушие никакого внимания, более того - просто
грубо отворачиваешься. Как так можно? За что ты его игнорируешь, демонстрируя
ему свой зад?
Я почувствовал, что дон Хуан опять
загоняет меня в угол. Мне все время казалось, что я бросил учиться, чтобы
спастись. Не зная, что ответить и пытаясь изменить направление разговора, я
пропустил все промежуточные вопросы и задал главный:
- Ты не мог бы подробнее
остановиться на своей контролируемой глупости? - Что именно тебя интересует?
- Расскажи, пожалуйста, что это
вообще такое - контролируемая глупость.
Дон Хуан громко рассмеялся и звучно
хлопнул себя по ляжке сложенной лодочкой ладонью.
- Вот это и есть контролируемая
глупость, - со смехом воскликнул он, и хлопнул еще раз.
- Не понял…
- Я рад, что через столько лет ты,
наконец, созрел и удосужился задать этот вопрос. В то же время, если б ты
никогда этого не сделал, мне было бы все равно. Тем не менее, я выбрал радость,
как будто меня в самом деле волнует, спросишь ты или нет. Словно для меня это
важнее всего на свете. Понимаешь? Это и есть контролируемая глупость.
Мы оба расхохотались. Я обнял его
за плечи. Объяснение показалось мне замечательным, хотя я так ничего и не
понял.
Как обычно, мы сидели на площадке
возле дома. Солнце поднялось уже довольно высоко. На подстилке перед доном
Хуаном лежала кучка каких-то семян, из которой он выбирал мусор. Я хотел
помочь, но он не позволил, сказав, что эти семена - подарок для его друга, живущего
в Центральной Мексике, и что я не обладаю достаточной силой, чтобы к ним
прикасаться.
- По отношению к кому ты
практикуешь контролируемую глупость, дон Хуан? - спросил я после
продолжительной паузы.
Он усмехнулся.
- По отношению ко всем.
- Хорошо, тогда давай иначе. Как ты
выбираешь, когда следует практиковать контролируемую глупость, а когда - нет?
- Я практикую ее все время.
Тогда я спросил, значит ли это, что
он никогда не действует искренне, и что все его поступки - лишь актерская игра.
- Мои поступки всегда искренни, -
ответил дон Хуан. - И все же они - не более, чем актерская игра. - Но тогда
все, что ты делаешь, должно быть контролируемой глупостью, - изумился я.
- Так и есть, - подтвердил он.
- Но этого не может быть! -
возразил я. - Не могут все твои действия быть контролируемой глупостью.
- А почему бы и нет? - с загадочным
видом спросил он.
- Это означало бы, что в
действительности тебе ни до чего и ни до кого нет дела. Вот, я, например. Уж не
хочешь ли ты сказать, что тебе безразлично, стану я человеком знания или нет,
жив я или умер, и что вообще со мной происходит?
- Совершенно верно. Меня это
абсолютно не интересует. И ты, и Лусио, и любой другой в моей жизни - не более,
чем объекты для практики контролируемой глупости.
На меня нахлынуло какое-то особое
ощущение пустоты. Было ясно, что у дона Хуана действительно нет никаких причин
заботиться обо мне. С другой стороны, я почти не сомневался, что его интересую
я лично. Иначе он не уделял бы мне столько внимания. А может быть, он сказал
так потому, что я действую ему на нервы? В конце концов, у него были на то
основания: я же отказался у него учиться.
- Я подозреваю, что мы говорим о
разных вещах, - сказал я. - Не следовало брать меня в качестве примера. Я хотел
сказать - должно же быть в мире хоть что-то, тебе небезразличное, что не было
бы объектом для контролируемой глупости. Не представляю, как можно жить, когда
ничто не имеет значения.
- Это было бы верно, если бы речь
шла о тебе, -сказал он. - Происходящее в мире людей имеет значение для тебя. Но
ты спрашивал обо мне, о моей контролируемой глупости. Я и ответил, что все мои
действия по отношению к самому себе и к остальным людям - не более, чем
контролируемая глупость, поскольку нет ничего, что имело бы для меня значение.
- Хорошо, но если для тебя больше
ничто не имеет значения, то как же ты живешь, дон Хуан? Ведь это не жизнь.
Он засмеялся и какое-то время
молчал, как бы прикидывая, стоит ли отвечать. Потом встал и направился за дом.
Я поспешил за ним. - Постой, но ведь я действительно хочу понять! Объясни мне,
что ты имеешь в виду.
- Пожалуй, объяснения тут
бесполезны. Это невозможно объяснить, - сказал он. - В твоей жизни есть важные
вещи, которые имеют для тебя большое значение. Это относится и к большинству
твоих действий. У меня - все иначе. Для меня больше нет ничего важного - ни
вещей, ни событий, ни людей, ни явлений, ни действий - ничего. Но все-таки я
продолжаю жить, потому что обладаю волей. Эта воля закалена всей моей жизнью и
в результате стала целостной и совершенной. И теперь для меня не важно, имеет
что-то значение или нет. Глупость моей жизни контролируется волей.
Он опустился на корточки и потрогал
растения, которые сушились под солнцем на куске мешковины. Я был совершенно
сбит с толку. После длительной паузы я сказал, что некоторые поступки наших
ближних все же имеют решающее значение. Например, ядерная война. Трудно
представить более яркий пример. Стереть с лица земли жизнь - что может быть
страшнее?
- Для тебя это так. Потому что ты
думаешь, - сверкнув глазами, сказал дон Хуан. - Ты думаешь о жизни. Но не
видишь.
- А если б видел - относился бы
иначе? - осведомился я.
- Научившись видеть, человек
обнаруживает, что одинок в мире. Больше нет никого и ничего, кроме той
глупости, о которой мы говорим, - загадочно произнес дон Хуан.
Он помолчал, глядя на меня и как бы
оценивая эффект своих слов.
- Твои действия, равно как и
действия твоих ближних, имеют значение лишь постольку, поскольку ты научился
думать, что они важны.
Слово "научился" он
выделил какой-то странной интонацией. Я не мог не спросить, что он имеет в
виду.
Дон Хуан перестал перебирать
растения и посмотрел на меня. - Сначала мы учимся обо всем думать, - сказал он,
- А потом приучаем глаза смотреть на то, о чем думаем. Человек смотрит на себя
и думает, что он очень важен. И начинает чувствовать себя важным. Но потом,
научившись видеть, он осознает, что не может больше думать о том, на что
смотрит. А когда он перестает думать о том, на что смотрит, все становится
неважным.
Дон Хуан заметил выражение
полнейшего недоумения на моем лице и повторил последнее утверждение трижды, как
бы пытаясь заставить меня понять. Несмотря на это, сказанное им поначалу
произвело на меня впечатление абсолютной бессмыслицы. Но после обдумывания я
решил, что это была очень сложная формула, имеющая отношение к каким-то
аспектам восприятия.
Я попытался сочинить вопрос,
который внес бы ясность, но не мог собраться с мыслями. Внезапно я почувствовал
полное изнеможение, и от четкости мышления не осталось и следа.
Дон Хуан, похоже, это заметил и
мягко похлопал меня по плечу.
- Почистишь вот эти растения, а
потом аккуратно покрошишь их сюда, - сказал он, протянув мне большой кувшин, и
куда-то ушел.
Вернулся он через несколько часов.
Уже наступил вечер. Давно справившись с растениями, я занимался своими
записями, благо времени на это у меня было предостаточно. Я хотел задать ему
несколько вопросов, но вместо ответа он сказал, что проголодался, развел огонь
в глиняном очаге и поставил на него кастрюлю с бульоном. Пошарив по сумкам с
продуктами, которые я привез, дон Хуан вытащил оттуда немного овощей, порезал
их на мелкие кусочки и бросил в кастрюлю. После этого он улегся на свою
циновку, сбросил сандалии и попросил меня сесть поближе к очагу и следить за
огнем.
Уже почти совсем стемнело. С места,
где я сидел, была видна западная часть неба. Края некоторых плотных и почти
черных посередине облаков были сильно изрезаны и подсвечены невидимым солнцем.
Я хотел сказать дону Хуану, какое красивое сегодня небо, но он меня опередил.
- Рыхлые края и плотная середина, -
сказал он, указывая на облака.
Его замечание до того совпадало с
фразой, которую я намеревался произнести, что я подскочил.
- Я как раз собирался тебе об этом
сказать, - проговорил я.
- Один-ноль в мою пользу, - объявил
он и засмеялся с детской непосредственностью.
Я спросил, как насчет того, чтобы
ответить на вопросы.
- Что тебя интересует?
- Наша сегодняшняя беседа о
контролируемой глупости сбила меня с толку, - сказал я, - Я действительно не
могу понять, что ты имеешь в виду. - И не сможешь. Потому что ты пытаешься об
этом думать, а мои слова никак не вяжутся с твоими мыслями.
- Я пытаюсь думать, - сказал я, -
потому что для меня это единственная возможность понять. И все-таки, хочешь ли
ты сказать, что как только человек начинает видеть, все в мире разом теряет
ценность?
- Разве я говорил "теряет
ценность"? Становится неважным, вот что я говорил. Все вещи и явления в
мире равнозначны в том смысле, что они одинаково неважны. Вот, скажем, мои
действия. Я не могу утверждать, что они - важнее, чем твои. Так же, как ни одна
вещь не может быть важнее другой. Все явления, вещи, действия имеют одинаковое
значение и поэтому не являются чем-то важным.
Тогда я спросил, не считает ли он,
что видение "лучше", чем простое "смотрение на вещи". Он
ответил, что глаза человека могут выполнять обе функции, и ни одна из них не
лучше другой. Приучать же себя только к одному из этих способов восприятия -
значит безосновательно ограничивать свои возможности. - Ага! Тогда твой смех -
настоящий. Получается, что смех - это уже не контролируемая глупость.
Какое-то время он пристально
смотрел на меня.
- Знаешь, я с тобой разговариваю
отчасти потому, что ты даешь мне повод посмеяться, - произнес он. - В пустыне
живут грызуны - крысы такие с пушистыми хвостами. Чтобы похозяйничать в запасах
других грызунов, они засовывают в их норки свои хвосты. Те пугаются и убегают.
Но в тот момент, когда крыса сидит, засунув в чужую норку хвост, ее очень легко
поймать. Так и ты - ловишься на своих же вопросах. Не пора ли выбираться? Ведь
эти крысы иногда остаются без хвоста, спасая свою шкуру.
Его сравнение рассмешило меня.
Когда-то дон Хуан показывал мне этих зверьков с пушистыми хвостами. Они были
похожи на маленьких жирных белок. Я представил себе одну из таких крыс с
оторванным хвостом. Картинка получилась грустной и в то же время очень
забавной.
- Мой смех - самый что ни на есть
настоящий, - сказал дон Хуан. - Впрочем, как и все, что я делаю. Но он же -
контролируемая глупость, поскольку бесполезен. Он ничего не меняет, но, тем не
менее, я смеюсь.
- Но, насколько я понимаю, дон
Хуан, твой смех не бесполезен. Он делает тебя счастливым. - Нет. Я счастлив
оттого, что смотрю на вещи, делающие меня счастливым, а потом уже глаза
схватывают их забавные стороны, и я смеюсь. Я говорил тебе это много раз. Чтобы
быть на высоте, всегда нужно выбирать путь, подсказанный сердцем. Может быть,
для кого-то это будет означать всегда смеяться.
Я решил, что он имеет в виду
противоположность смеха и плача, или хотя бы то, что плач - это действие,
которое нас ослабляет. Но дон Хуан заявил, что никакого принципиального
различия нет. Просто ему лично больше подходит смех, потому что когда он
смеется, тело его чувствует себя лучше, чем когда он плачет.
Тогда я заметил, что равнозначности
здесь все же нет, поскольку есть предпочтение. Если он предпочитает смеяться, а
не плакать, то смех - важнее. Но он упрямо твердил, что его предпочтение ничего
не значит; они равноценны. Я заявил, что, доводя наш спор до логического конца,
можно сказать: "Если все равнозначно, то почему бы не выбрать
смерть?"
- Иногда человек знания так и
поступает, - сказал дон Хуан. - И однажды он может просто исчезнуть. В таких
случаях люди обычно думают, что его за что-то убили. А он просто выбрал смерть,
потому что для него это не имело значения. Я выбрал жизнь. И смех. Причем вовсе
не оттого, что это важно, а потому, что такова склонность моей натуры. Я говорю
"выбрал", потому что вижу. Но на самом деле выбрал не я. Моя воля
заставляет меня жить вопреки тому, что я вижу в мире. Ты сейчас не можешь меня
понять из-за своей привычки думать так, как ты смотришь.
Последняя фраза меня заинтриговала.
Я спросил, что он имеет в виду.
Дон Хуан несколько раз дословно
повторил ее, а потом объяснил, что, говоря "думать", имеет в виду
устойчивые постоянные понятия, которые есть у нас обо всем в мире. Он сказал,
что видение избавляет от привычки к ним. Но пока я не научусь видеть, мне не
удастся понять, о чем идет речь. - Но если ничто не имеет значения, дон Хуан,
то с какой стати должно иметь значение - научусь я видеть или нет?
- Я уже говорил тебе, что наша
судьба как людей - учиться, для добра или зла. Я научился видеть, и говорю, что
нет ничего, что имело бы значение. Теперь - твоя очередь. Вполне вероятно, что
в один прекрасный день ты научишься видеть, и тогда сам узнаешь, что имеет
значение, а что - нет. Для меня нет ничего, имеющего значение, но для тебя,
возможно, значительным будет все. Сейчас ты должен понять: человек знания живет
действием, а не мыслью о действии. Он выбирает путь сердца и следует по этому пути.
Когда он смотрит, он радуется и смеется; когда он видит, он знает. Он знает,
что жизнь его закончится очень скоро: он знает, что он, как любой другой, не
идет никуда: и он знает, что все равнозначно. У него нет ни чести, ни
достоинства, ни семьи, ни имени, ни родины. Есть только жизнь, которую нужно
прожить. В таких условиях контролируемая глупость - единственное, что может
связывать его с ближними. Поэтому он действует, потеет и отдувается. И взглянув
на него, любой увидит обычного человека, живущего так же, как все. Разница лишь
в том, что глупость его жизни находится под контролем. Ничто не имеет особого
значения, поэтому человек знания просто выбирает какой-то поступок и совершает
его. Но совершает так, словно это имеет значение. Контролируемая глупость
заставляет его говорить, что его действия очень важны, и поступать
соответственно. В то же время он прекрасно понимает, что все это не имеет
значения. Так что, прекращая действовать, человек знания возвращается в
состояние покоя и равновесия. Хорошим было его действие или плохим, удалось ли
его завершить - до этого ему нет никакого дела.
С другой стороны, человек знания
может вообще не совершать никаких поступков. Тогда он ведет себя так, словно
эта отстраненность имеет для него значение. Так тоже можно, потому что и это
будет контролируемая глупость.
В длинных и путаных выражениях я
попытался объяснить дону Хуану, что меня интересуют мотивы, заставляющие
человека знания действовать определенным образом вопреки пониманию того, что
ничто не имеет значения. Усмехнувшись, он ответил:
- Ты думаешь о своих действиях,
поэтому тебе необходимо верить, что действия эти важны настолько, насколько ты
их таковыми считаешь. Но в действительности из всего, что человек делает, нет
ничего, что имело бы значение. Ничего! Но как тогда я могу жить? Ведь ты об
этом спрашивал? Проще было бы умереть; ты так говоришь и считаешь, потому что
думаешь о жизни. Как, например, думаешь сейчас, на что похоже видение. Ты
требуешь от меня описания. Такого, которое позволило бы тебе об этом думать,
как ты думаешь обо всем остальном. Но в случае видения думать вообще
невозможно. Поэтому мне никогда не удастся объяснить тебе, что это такое.
Теперь по поводу моей контролируемой глупости. Ты хочешь услышать о причинах,
которые побуждают меня действовать именно так, но я могу сказать лишь одно -
контролируемая глупость очень похожа на видение. Ни о том, ни о другом думать
невозможно.
Дон Хуан зевнул, лег на спину и
потянулся, хрустнув суставами.
- Ты слишком долго отсутствовал, -
сказал он, - и ты слишком много думаешь.
Он встал и направился в густой
чаппараль за домом. Я остался сидеть у огня, подбрасывая хворост, чтобы варево
в кастрюле кипело. Хотел было зажечь керосиновую лампу, но сумерки были очень
успокаивающими. Света от огня в очаге было достаточно, чтобы писать.
Красноватые отблески ложились повсюду. Я положил блокнот на землю и лег рядом.
Я устал. Из всего нашего разговора в голове осталось только одно - дону Хуану
нет до меня никакого дела. Это не давало мне покоя. Столько лет я ему верил!
Если б не эта вера, меня давно бы уже парализовало от страха при встрече с тем,
чему он меня учил. В основе этой веры была твердая убежденность в том, что дон
Хуан заботится лично обо мне. По большому счету я всегда его побаивался, но
страх этот мне удавалось подавлять благодаря глубокой вере. Теперь он сам
полностью разрушил основу, на которой строилось мое к нему отношение. Мне не на
что было опереться. Я чувствовал себя совершенно беспомощным.
Меня охватило какое-то странное
беспокойство. Я вскочил и начал возбужденно ходить возле очага. Дон Хуан все не
приходил, и я с нетерпением ожидал его возвращения.
Наконец он появился и уселся возле
огня. Я выложил ему все о своих страхах: и то, что не могу менять направление,
добравшись до середины потока: и то, что вера в него для меня неотделима от
уважения к его образу жизни, который по своей сути рациональнее, вернее,
целесообразнее моего; и то, что он загнал меня в угол, ввергнув в ужасающий
конфликт, потому что его слова заставляют в корне изменить мое отношение и к
нему, и ко всему, что с ним связано. В качестве примера я рассказал дону Хуану
одну историю о старом американце, очень образованном и богатом юристе,
консерваторе по убеждениям. Этот человек всю жизнь свято верил, что борется за
правое дело. В тридцатые годы, когда администрацией Рузвельта были разработаны
и начали претворяться в жизнь кардинальные меры по оздоровлению американской
экономики, так называемый "новый подход", он оказался полностью
втянутым в политическое противостояние. Он был убежден, что перемены приведут к
развалу государства. Отстаивая привычный образ жизни и будучи убежденным в
своей правоте, этот человек яростно ринулся в самую гущу борьбы с тем, что он
считал политическим злом. Однако время перемен уже наступило, и волна новых
политических и экономических реалий опрокинула его. Десять лет он боролся как
на политической арене, так и в личной жизни, но вторая мировая война добила его
окончательно и в политическом, и в идеологическом отношении. С чувством горечи
он ушел от дел и забрался в глушь, добровольно обрекая себя на ссылку. Когда я
познакомился с ним, ему было уже восемьдесят четыре, он вернулся в родной
город, чтобы дожить оставшиеся годы в доме престарелых. Мне было непонятно, что
он жил так долго, учитывая испытываемые на протяжении десятилетий горечь и
жалость к себе. Я ему чем-то понравился, и мы часто и подолгу беседовали.
Заканчивая разговор, который
состоялся у нас перед моим отъездом в Мексику, он сказал: - У меня было
достаточно времени, чтобы оглянуться назад и разобраться в происходившем.
Главные события моей жизни уже давно стали историей, причем далеко не лучшими
ее эпизодами. И возможно, что я потратил годы своей жизни в погоне за тем, чего
просто не существовало. В последнее время я чувствую, что верил в какой-то
фарс. Ради этого не стоило жить. Теперь-то я это знаю. Но потерянных сорока лет
уже не вернуть…
о Я сказал дону Хуану, что причиной
моего внутреннего конфликта были его слова о контролируемой глупости.
- Если нет ничего, что имело бы
значение, - рассуждал я, - то тогда, став человеком знания, неизбежно придешь к
такой же опустошенности, как этот старик, и окажешься не в лучшем положении.
- Это не так, - возразил дон Хуан.
- Твой знакомый одинок, потому что так и умрет, не умея видеть. В своей жизни
он просто состарился, и сейчас у него больше оснований для жалости к себе, чем
когда бы то ни было. Он чувствует, что потеряно сорок лет, потому что он жаждал
побед, но потерпел поражение. Он так никогда и не узнает, что быть победителем
и быть побежденным - одно и то же.
Теперь ты боишься меня, потому что
я сказал тебе, что ты равнозначен всему остальному. Ты впадаешь в детство. Наша
судьба как людей - учиться, и идти к знанию следует так, как идут на войну. Я
говорил тебе об этом много раз. К знанию или на войну идут со страхом, с
уважением, с осознанием того, куда идут, и с абсолютной уверенностью в себе. В
себя ты должен верить, а не в меня!
Ты боишься пустоты, в которую
превратилась жизнь твоего знакомого? Но в жизни человека знания не может быть
пустоты. Его жизнь заполнена до краев.
Дон Хуан встал и вытянул перед
собой руки, как бы ощупывая что-то в воздухе.
- Все заполнено до краев, -
повторил он, - и все равнозначно. Я не похож на твоего знакомого, который
просто состарился. И, утверждая, что ничто не имеет значения, я говорю совсем
не о том, что имеет в виду он. Для него его борьба не стоила усилий, потому что
он потерпел поражение. Для меня нет ни побед, ни поражений, ни пустоты. Все
заполнено до краев и все равно, и моя борьба стоила моих усилий.
Чтобы стать человеком знания, нужно
быть воином, а не ноющим ребенком. Бороться не сдаваясь, не жалуясь, не
отступая, бороться до тех пор, пока не увидишь. И все это лишь для того, чтобы
понять, что в мире нет ничего, что имело бы значение.
Дон Хуан помешал содержимое
кастрюли деревянной ложкой. Суп был готов. Он снял кастрюлю с огня и поставил
на прямоугольное кирпичное сооружение возле стены, которым пользовался как
столом и полкой, и ногой придвинул к столу два низких ящика, служивших
стульями. Сидеть на них было довольно удобно, особенно если прислониться спиной
к вертикальным брусьям стены. Налив мне полную миску, дон Хуан знаком пригласил
меня к столу. Он улыбался, глаза его сияли, словно мое присутствие доставляло
ему море радости. Аккуратным движением он пододвинул мне миску. В том, как он
это сделал, было столько тепла и доброты, что я воспринял этот жест как
предложение восстановить свою веру в него. Я почувствовал себя идиотом и, чтобы
как-то развеять это ощущение, начал разыскивать свою ложку. Ее нигде не было.
Суп был слишком горячим, чтобы пить прямо из миски, и, пока он остывал, я
спросил у дона Хуана, означает ли контролируемая глупость то, что человек
знания никого не может любить.
Дон Хуан перестал есть и
расхохотался.
- Ты слишком озабочен тем, чтобы
любить людей, и тем, чтобы тебя любили. Человек знания любит, и все. Он любит
всех, кто ему нравится, и все, что ему по душе, но он использует свою
контролируемую глупость, чтобы не заботиться об этом. Что полностью
противоположно тому, чем сейчас занимаешься ты. Любить людей или быть любимым
ими - это еще далеко не все, что доступно человеку.
Он посмотрел на меня, слегка
склонив голову набок, и добавил:
- Подумай об этом. - Дон Хуан, есть
еще один момент, о котором я хотел бы спросить. По твоим словам, для того,
чтобы смеяться, нужно смотреть глазами; но мне кажется, что мы смеемся потому,
что думаем. Возьми слепого - он тоже смеется.
- Нет. Слепые не смеются. Они могут
производить звуки, похожие на смех, и тела их при этом будут вздрагивать, как
при смехе. Но они никогда не смотрели на смешные стороны мира, им приходится их
воображать. Поэтому по-настоящему хохотать слепые не могут.
Больше мы не разговаривали. Я
чувствовал себя счастливым. Сначала мы ели молча; а потом дон Хуан начал
смеяться - я использовал сухой прутик, чтобы подносить овощи ко рту.
4 октября 1968
Сегодня днем, выбрав время, я
спросил дона Хуана, не будет ли он возражать, если мы немного поговорим о
видении. Он сначала вроде согласился, но потом, усмехнувшись, сказал, что я
вновь взялся за свое - пытаюсь подменить разговорами действие.
- Если ты хочешь видеть, ты должен
позволить дымку вести себя, - сказал он с ударением. - Разговаривать же об этом
я не желаю.
Я помогал ему очищать какие-то
сухие растения. Довольно долго мы работали в полном молчании. От долгого
молчания мне всегда становилось не по себе, особенно в присутствии дона Хуана.
Наконец я не выдержал и задал вопрос, вырвавшийся у меня чуть ли не
самопроизвольно:
- Как человек знания применяет
контролируемую глупость, если умирает тот, кого он любит?
Вопрос застал дона Хуана врасплох.
Он удивленно взглянул на меня.
- Возьмем Лусио, - развил я свою
мысль. - Если он будет умирать, останутся ли твои действия контролируемой
глупостью? - Давай лучше возьмем моего сына Эулалио. Это - более подходящий
пример, - спокойно ответил дон Хуан. - На него свалился обломок скалы, когда мы
работали на строительстве Панамериканской магистрали. То, что я делал, когда он
умирал, было контролируемой глупостью. Подойдя к месту обвала, я понял, что он
уже практически мертв. Но он был очень силен, поэтому тело еще продолжало
двигаться и биться в конвульсиях. Я остановился перед ним и сказал парням из
дорожной бригады, чтобы они его не трогали. Они послушались и стояли вокруг,
глядя на изуродованное тело. Я стоял рядом, но не смотрел, а сдвинул восприятие
в положение видения. Я видел, как распадается его жизнь, расползаясь во все
стороны подобно туману из мерцающих кристаллов. Именно так она обычно
разрушается и испаряется, смешиваясь со смертью. Вот что я сделал, когда умирал
мой сын. Это - единственное, что вообще можно сделать в подобном случае. Если
бы я смотрел на то, как становится неподвижным его тело, то меня бы изнутри
раздирал горестный крик, поскольку я бы чувствовал, что никогда больше не буду
смотреть, как он, красивый и сильный, ступает по этой земле.
Но я выбрал видение. Я видел его
смерть, и в этом не было печали, не было вообще никакого чувства. Его смерть
была равнозначна всему остальному.
Дон Хуан замолчал: он казался
печальным. Вдруг он улыбнулся и потрепал меня по затылку.
- Другими словами, когда умирает
тот, кого я люблю, моя контролируемая глупость заключается в смещении
восприятия, - сказал он.
Я вспомнил тех, кого любил сам, и
сердце защемило от приступа жалости к себе.
- Счастливый ты, дон Хуан. Умеешь
сдвигать восприятие. А я могу только смотреть…
Мои слова его рассмешили.
- Счастливый… Осел! - произнес он.
- Это - тяжкий труд.
Мы засмеялись. После длительной
паузы я снова начал его расспрашивать, видимо для того, чтобы развеять собственную
печаль.
- Дон Хуан, если я правильно
понимаю, в жизни человека знания контролируемой глупостью не являются только
действия в отношении союзников и Мескалито? Верно?
- Верно, - кивнул он. - Союзники и
Мескалито - существа совершенно иного плана. Моя контролируемая глупость
распространяется только на меня и на мои действия по отношению к людям.
- Да, но логически можно
предположить, что человек знания мог бы рассматривать как контролируемую
глупость также и свои действия в отношении союзников и Мескалито, не так ли?
Какое-то время он молча смотрел на
меня.
- Снова ты начинаешь думать.
Человек знания не думает, поэтому возможность такого логического предположения
для него исключена. Возьмем, к примеру, меня. Я говорю, что практикую
контролируемую глупость по отношению к людям, и говорю так потому, что способен
их видеть. Однако я не могу увидеть, что скрывается за союзником, поэтому он
для меня непостижим. Как, скажи на милость, могу я контролировать свою
глупость, сталкиваясь с тем, чего не понимаю? По отношению к союзнику и
Мескалито я всего лишь человек, который знает как видеть, человек, который
поражен тем, что он видит; человек, которому никогда не будет дано постичь все,
что его окружает.
Теперь возьмем, к примеру, тебя. Мне
безразлично, станешь ты человеком знания или нет, а Мескалито это почему-то не
безразлично. Ясно, что для него это имеет какое-то значение, иначе он не стал
бы столько раз и так явно демонстрировать свою заинтересованность в тебе. Он
позволил мне это заметить, и я иду ему навстречу хотя причины, заставляющие
Мескалито действовать таким образом, для меня непостижимы.
|